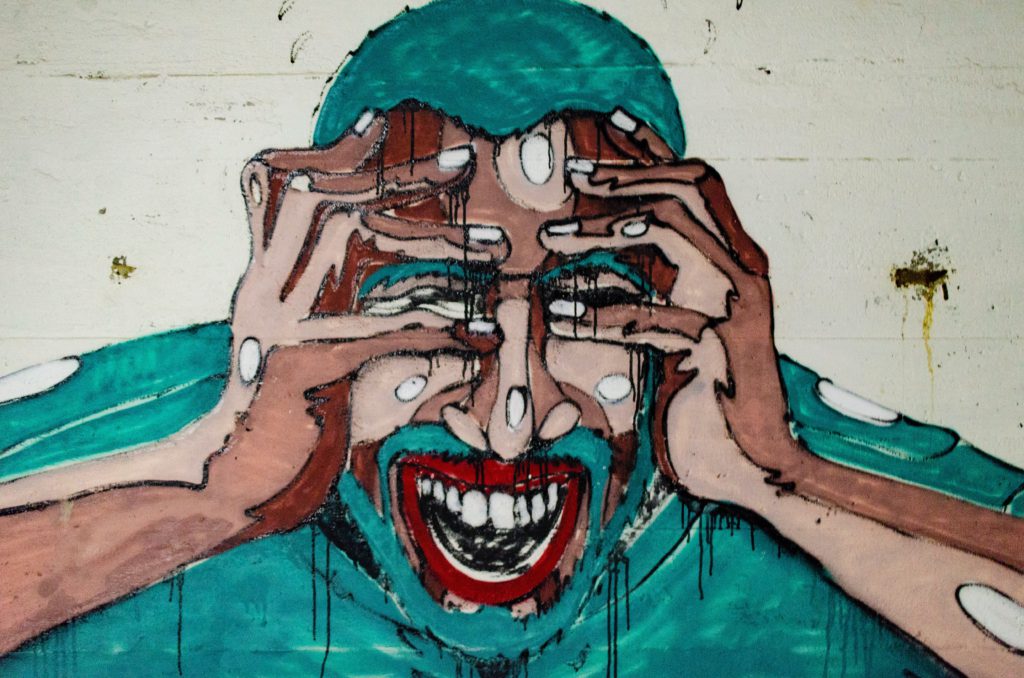Паническое расстройство может действительно инвалидизировать человека на столько, что он действительно теряет веру в то, что ему когда-либо станет лучше. То есть, страдающий как бы смиряется с тем, что он будет страдать всю оставшуюся жизнь и из-за этих страданий так и не вдохнет жизнь на полную грудь, а потом быстрее умрет. Это смирение выстилает путь по закостенению тяжело корректируемых убеждений про безысходность. Как правило, пациент достаточно давно разочарован во врачебной помощи, ведь медикамент только на время дает «хелп-эффект», а далее — привыкание к нему и подсчет побочных эффектов. Поэтому страдающему паническим расстройством будет всегда выгодней зависеть от близких (родителей, супругов, детей), чтобы не брать больше нагрузок, чем хотелось бы или, чтобы в случае чего, вовремя быстро сбросить ответственность на них. Из-за отсутствия внутренней личной самоподдержки, а она давным давно была израсходована еще до появления первой панической атаки, пациент больше не верит в то, что есть что-то лучше, чем проводить время в безопасном для себя месте (например, дома). Ему спокойней, если тревога вообще не возникает, даже если это и тревога чего-то нового. Традиция больше не видеть альтернативной жизни делает убеждения по поводу своего расстройства несознательными. Таким вот образом временная болезнь становится хронической болезнью с очень трудной психотерапевтической и медикаментозной коррекцией. Вторичная выгода от болезни: а) пассивное и магическое отношение к жизни, б) позиция жертвы требующей внимание больше через жалость, чем сочувствие, в) оправдание болезни, как уникальной неизученной до этих пор болячки, г)зависимость от кого-то и следствие — эмоциональный шантаж близких для достижения своих целей, д)быстрый доступ к контролю своего состояния, а значит и жизни, через медикамент. Тяжесть панического расстройства зависит от длительности его в жизни пациента и наличия расстройств сопутствующих, дополняющих конструкт страдания — депрессия, агорафобия, ипохондрия, гипертоническая болезнь.
От чего зависит тяжесть и продолжительность существования панического расстройства?
- Биологическая почва. Что имеется ввиду? Каждый человек испытывал в детстве страхи, а в избыточном страхе паниковал. Если на тот момент не было рядом адекватного взрослого, то повзрослевший ребенок будет продолжать бояться чего-то потом, например, конфликтов или предательства. Но здесь речь идет о биологически сверхадреналиновых людях, которые с рождения реактивней отвечают на перемены условий внешней среды. Они молниеносно отвечают общей реакцией тела на перепады температуры, избыток сладкого, переезды, обиды и т.п. Эти люди с врожденным внутренним механизмом сверхпереживательности реалий жизни и им необходимо больше времени, больше присутствия взрослого гида, чтобы интегрировать страх угрозы существования. Но, а если родитель аналогично тревожный, то ребенок развивается по пути ожидания опасности от окружения и в целом от будущего. Обычно в литературе используется народный сленг, как «тревожная мнительность», внушаемость. По моему мнению, это скорее всего еще раз демонстрирует жажду в чье-то терпеливой поддержке, чем склонность к самонакручиванию в несуществующих проблемах. Ведь тревожные люди фантазируют о вероятных проблемах тогда, когда ощущают, что их множественные тревоги утомили других.
- Неблагоприятная модель воспитания. Есть множество вариантов неудачных способов воспитания и их комбинаций: требовательно-директивность, отвергающее-наказывающее воспитание, контролирующая-гиперопека, гипоопека-попустительство, детство с пьющим родителем, физическое или эмоциональное насилие, воспитание в условиях внезапного развода и шантажа через ребенка. Это в той или иной мере травмирует ребенка, подталкивая его к быстрому взрослению, вопреки потребности доиграть детство. Когда я говорю о страдающих паническими атаками, то встречаюсь с тем, что их детские потребности слабо удовлетворялись, либо только от праздника к празднику замечались. В основном акцент стоял на картинке «Не бойся, ты должен быть сильным!», «Ты должна быть взрослой, а о родителях кто подумает!?» или «Мог бы и лучше сделать, ты что не видишь! Не плачь, надо работать!».
- Длительность развития панического расстройства. До появления первой панической атаки, как чего-то неожиданного и ужасно нового, существует накопительный период тревоги, когда внутренний буфер еще в состоянии контейнировать боль. Этот период может длиться, как с детских пор, когда папа и мама разделяют жизненные риски, так и с момента вылета с родительского гнезда. Сам страдающий паническим расстройством часто сообщает, что мечтает попасть снова обратно в этот жизненный этап в прошлом, ведь там было все относительно хорошо. Хотя именно тогда все и начиналось, в том отрезке биографической жизни использовались программы-правила и пути, которые и подвели биологический ресурс под истощение. На этапе частого появления панических атак, пациент вначале сам учится справляться с ними и если повезет с другом или вовремя отдохнет, то навсегда избавляется от них, переосмыслив прожитый отрезок жизни. Но, другая часть страдающих буксует в тревогах, ничего не меняет, стабильно доводит себя до наступления повторных панических атак, а потом необратимо вязнет них.
- Количество обострений. Не буду утверждать точно, но осенью и по-весне, заметно увеличивается количество панических атак у пациентов с паническим расстройством. И конечно же в данном случае, чтобы снять наслаиваемость одной атаки на другую, то транквилизатор с антидепрессантом необходимы. А лечебней всего является покой в терапевтическом стационаре или в неврологии, где бы не мучили угрызения совести по поводу семьи, работы, бесполезности проведенного времени. Потому что ключевой момент в снятии тревоги напряжения — это спокойствие и покой. И вроде бы все хорошо, больной отдохнул, принял заботу от близких, почитал книгу, покушал три раза в день, сделал анализы с удовлетворительными результатами, но только вот жизнь фрагментируется на этапы дрейфования между срывами. Становится лучше только на неделю после выписки, а условия жизни не меняются. Это и возвращает снова к обострениям, где метеофактор является только толчком. Поэтому количество обострений за весь анамнез болезни стирает под ноль саму идею жить без болезни.
- Количество встречаемых специалистов. Когда я проходил интернатуру, то присутствовал во время одного клинразбора — для меня тогда космический случай. Услышал одну фразу от одного врача: «Сколько психиатров, столько и диагнозов!». Сегодня я смело могу утверждать, что каждый специалист будет видеть свои наблюдения через канву личного опыта. Следовательно, каждый специалист будет делать то, что когда-то делал и новый пациент для него будет с новым багажом проблем. Один врач силен только в одном, другой просто симпатичен, что и побуждает на него надеяться. Безупречных и окончательно компетентных врачей нет. А болезни с ростом цивилизации эволюционируют в новые формы. И здесь важно понимать, что медицинский специалист учится до конца своей жизни видеть в индивидуальности пациента тонкие детали для развязки проблемы. Но все-таки количество врачебных посещений влияет на понимание трудности своего случая, а потом и на степень разочарования в медицине вообще, особенно когда предлагается одно и тоже лечение. Разочарования в специалистах отображает падение веры в излечение.
- Зависимость от медикаментозной поддержки. Если пациент разочаровался во врачах, то он будет заниматься самолечением. Или ходить по «бабкам». Это логически ясно. Поэтому коммерческое название препарата, к которому привыкает организм пациента, страдающего паническими атаками, будут менять. Сегодня аптек очень много: по 2-3 на каждую улицу. Фармреклама делает акцент на том, что только современная таблетка может помочь от всего. Купить препарат без рецепта врача последнее время очень легко. Считаю, что к врачу сегодня ходят именно за этим. И хвала тем специалистам, которые не разучились думать головой и еще окончательно не подвязаны к цепи «симптом-синдром-диагноз-медикамент». И так: препарат сегодня обычно необходим, чтобы снять острую физическую и психическую боль, но потом желательно с него спрыгивать, чтобы научится навыкам обхождения с жизнью без него. Если этого не происходит, то пациент становится рабом собственной болезни!